Зал «Образование и просвещение»
Ликбез
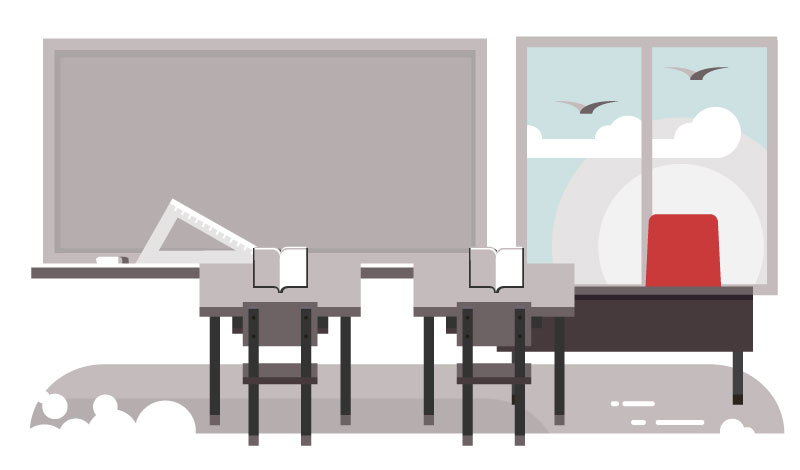
У меня с революцией ассоциируется ликвидация безграмотности (ликбез), символами которой можно считать перо, чернильницу и лист бумаги. Все это лежит на парте (старой, с наклоном и откидной крышкой) и ждет ученика от 7 до 60 лет...
Революция 1917 года принесла не только разобщенность, сложные и трагические времена, но и культурные завоевания. Прежде всего — всеобщую грамотность и обязательное для каждого гражданина владение письмом, чтением и счетом. Это было частью кампании ликвидации безграмотности.
На эту тему есть гигантское число фильмов и публикаций. Известно, что в 1917–1927 годах были обучены грамоте до 10 миллионов взрослых. Перепись населения СССР 1926 года выявила 56,6% грамотного населения в возрасте от 9 до 49 лет.

Директор центра развития лидерства в образовании ВШЭ
Линотип
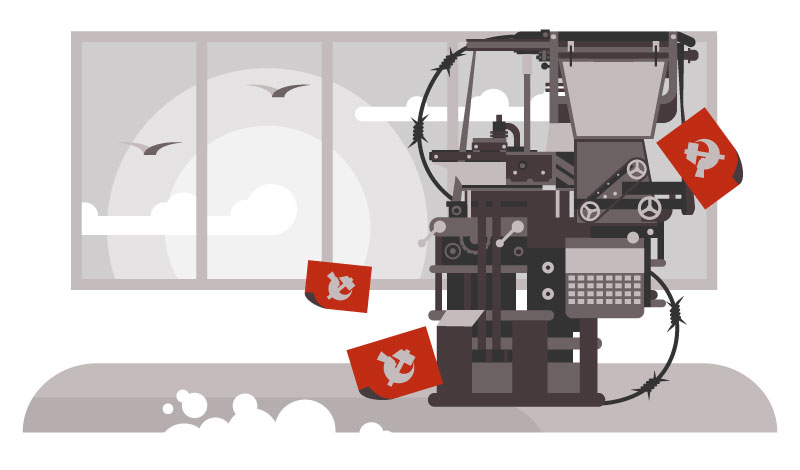
Когда мы говорим о «русской революции», надо уточнить, что имеется в виду: Февральская революция или Октябрьский переворот 1917 года. Как известно, и сами большевики до конца 1920-х годов использовали слово «переворот» в применении к захвату власти, осуществленному ими.
В музей Октябрьского переворота я бы поместил линотип — типографский наборный аппарат того времени, но при этом — обмотанный колючей проволокой.
Революция во многом состоялась благодаря возможности печатать и распространять газеты и листовки. А газеты набирались на линотипе.
Конечно, в событиях 1917 года играло огромную роль и устное слово. Я задумался над тем, что бы мне больше хотелось поставить в музее, — звукозаписывающее устройство или аппарат для типографского набора. И я все-таки выбрал линотип, потому что звукозапись в политике 1910-х годов имела еще небольшое значение.
Линотип я предлагаю обмотать колючей проволокой, чтобы метафорически показать: печатное слово поддерживало раскол в обществе. Не было виной раскола, но поддерживало.
Образ колючей проволоки уместен и потому, что Октябрьский переворот прямо и косвенно привел к жесточайшим ограничениям печати. По степени жесткости цензуры большевикам удалось значительно превзойти Российскую империю, хотя имперская цензура имела богатую историю и была в среднем жестче, чем во многих европейских государствах. Однако с большевистским контролем информации дореволюционные репрессии не шли ни в какое сравнение. Об этом говорили — пока это было возможно в СССР — люди, которые имели опыт публикаций до и после революции. Например, Корней Чуковский позволял себе до поры до времени — а именно до 1929 года — упоминать об этой разнице в дневниках. Можно сказать, что в СССР доступ к запрещенным книгам, да и просто ко многим новинкам иностранной печати, внесоветской мысли, был, метафорически говоря, огражден колючей проволокой.
На территории России длительное время действовал целый ряд правительств и квазиправительственных институций — «белых», «зеленых»... «Белые» тоже принимали меры по ограничению печати, в ряде случаев — довольно репрессивные. Но большевики в ограничениях свободы слова перегнали всех.

Доцент Школы культурологии НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ
Газета

Важным символом Революции 1917 года — как на февральском, так и на октябрьском этапе — является газета. Это связано, прежде всего, с огромным значением газет для обмена информацией, мнениями, а часто и слухами. Газеты революционного периода в этом смысле выполняли функции современных социальных сетей.
Свержение монархии освободило газеты от цензуры и превратило их из символа официоза и «избранности» образованных элит в инструмент публичного общения, которое, хотя и происходило по-прежнему, в основном, в городах, постепенно распространялось и на сельские районы. Именно революция стала временем издания первых газет во многих деревнях.
Кроме того, устранение имперских ограничений для публикаций на языках национальных меньшинств существенно разнообразило печать, дав публичный голос ранее не представленным в дискуссиях группам.
Февральскую революцию можно считать точкой отсчета, своеобразного «взрыва» и стремительного роста количества публикаций самых разных, но в основном социалистических и либеральных оттенков. А Октябрьская революция (переворот, осуществленный большевиками и их союзниками в Петрограде) стала как точкой наибольшего расцвета газет, так и началом нового витка цензуры.
В своей работе я изучаю, в основном, регионы бывшей империи восточнее озера Байкал — Забайкалье и Дальний Восток. Для многих жителей этих регионов Февраль впервые открыл окно в публичное пространство, в мир политической самоорганизации. «Приамурские известия», «Дальний Восток», «Известия Владивостокского Совета» и другие газеты не только публиковали обращения и законы Временного правительства, но и сообщали о бесчисленных съездах и совещаниях региональных политиков и активистов (учителей, бурят-монголов, корейцев, украинских переселенцев, представителей различных партий и вновь созданных органов местного самоуправления).
Более того, в газетах публиковались образовательные материалы. Они объясняли неграмотным жителям региона, что такое «гражданин», «демократия», «национальное самоопределение», «выборы» и «конституция». В этом смысле газета стала воплощением надежд на демократические преобразования в бывшей империи и на формирование общества, состоящего из граждан, а не из бывших рабов, и способного создать собственное свободное государство.
В конце октября 1917 года, когда из Петрограда перестала поступать официальная информация, газеты помогали населению разобраться в политической ситуации и не поддаваться панике. Большинство политических групп и общественных организаций Дальнего Востока, в том числе и советы Хабаровска и Благовещенска, выступили резко против большевистского переворота. В регионе вовсю шли всеобщие выборы в органы местного самоуправления, которые должны были, в свою очередь, заняться организацией выборов в Учредительное собрание. Большевики и их союзники не сразу пришли к власти в регионе (до весны 1918 года здесь сохранилось демократически избранное земство). Но демократические газеты быстро стали для большевиков главным врагом. Вскоре была закрыта газета «Дальний Восток», а последний номер «Приамурских известий» вышел в день формального перехода власти к большевикам 12 декабря 1917 года. «Известия Владивостокского Совета», разумеется, пережили переворот. Однако из редакции были удалены все противники большевиков, а сама газета уже к концу 1917 года стала орудием пропаганды, а не местом для дискуссий и окном в публичное пространство. Несмотря на всю ненависть к царизму, большевики быстро вернулись к основным практикам романовского правительства: организовали цензуру и «охранку» в лице ВЧК.
Газета в итоге стала и орудием, и жертвой нового режима после недолгой февральской свободы.

PhD, Рурский университет в Бохуме, научный сотрудник (ранее НИУ ВШЭ СПб, Центр исторических исследований, старший научный сотрудник)
Реформа правописания
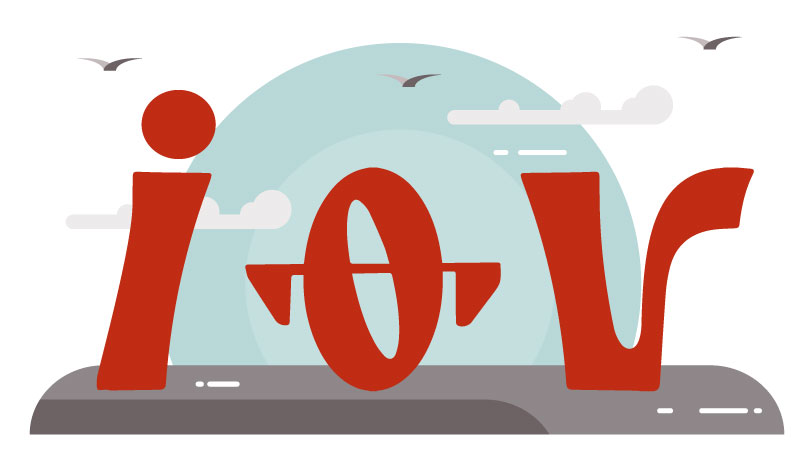
Я бы предложил реформу правописания и греческие буквы русской азбуки — Ѵ (ижицу), Ѳ (фиту), І (и восьмеричное).
Реформа правописания была задумана задолго до переворота 1917 года. Но большевики осуществили ее, как свою собственную. Однако этот шаг означал не столько упрощение правописания для бедных, сколько акт удаления из письменного языка исторического звена, которое по одному виду слова позволяло восстановить и его происхождение (например, от конкретного греческого корня), и правильное словоупотребление.
В последние годы, утоляя желание увидеть современное русское слово написанным в старой орфографии, некоторые энтузиасты восстанавливают правила дореформенной орфографии и орфоэпии.

Профессор Школы филологии